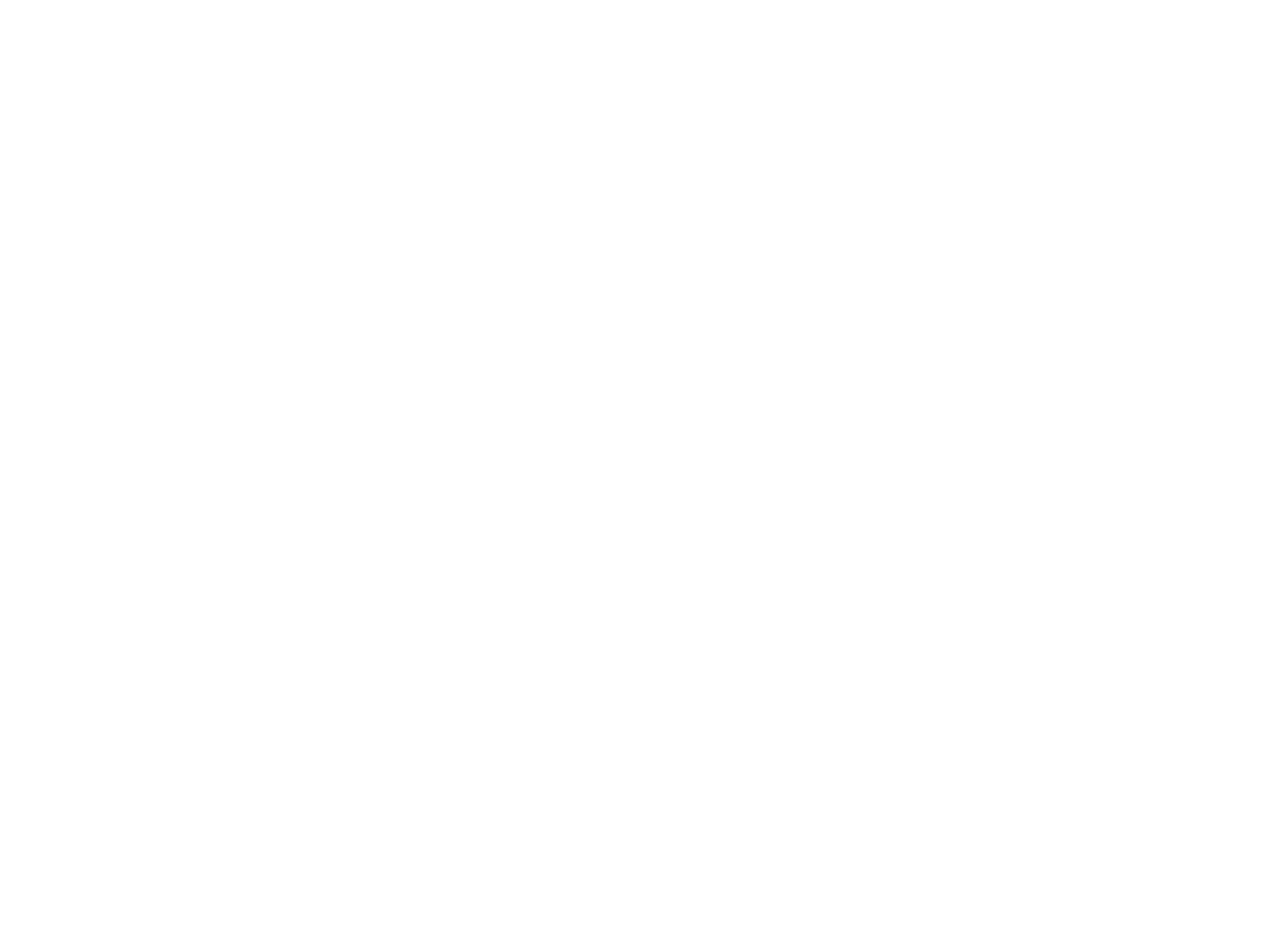Ладожское кольцо. Карелия в эпоху пандемии.
«На серебряных водах Ладожского озера»: Александр Дюма на Ладоге
Не только русские люди искусства и путешественники стремились к Ладожскому озеру. В середине XIX века побывал здесь и знаменитый французский романист Александр Дюма (отец). Человек скептического склада ума, наблюдательный, откровенный и прекрасно владевший пером, он оставил яркие, запоминающиеся и, увы, мягко говоря, не всегда доброжелательные заметки о своем путешествии по России. Российская действительность заметно обострила ироничность его натуры. Тем более, что путешествие по Ладожскому озеру всегда было испытанием для тех, кто на него отваживался. Автор «трех мушкетеров» хлебнул сполна: попал в шторм, трясся по бездорожью, ночевал в толпе нищих паломников, голодал и недосыпал. Тем ценнее его описания красот здешних мест, искупивших все трудности и невзгоды. На берегу Ладоги, 24 июля 1858 года писатель отметил свой день рождения, вероятно самый запоминающийся в жизни.
Свое описание путешествия Дюма предваряет скромным замечанием: «я очень люблю путешествовать, потому что наделен даром с легкостью видеть все иначе, чем другие, видеть то, чего не видит никто». Он также посчитал неправильным, находясь в Санкт-Петербурге, не «заглянуть в Финляндию», напомню, в тот момент входившую в состав России и являвшуюся большой экзотикой для иностранцев.
Во время путешествия писатель со своими тремя спутниками (французом, итальянцем и обрусевшим французом-переводчиком) посетил Шлиссельбург, острова Коневец и Валаам, город Сердоболь (современный Сортавала), мраморный карьер в Рускеале.
Самым сильным впечатлением от поездки стала буря, в которую попали иностранцы. По дороге к острову Валаам их пакетбот (так, на немецкий лад, называли регулярные почтово-пассажирские суда) попал в туман, а затем… «среди тумана ударил гром, и озеро вскипело, как вода в котле над костром. Буря, можно сказать, разразилась не в высях, а в глубинах пучины, словно сожалеющей, что держала нас на поверхности… Туман все сгущался; удары грома были страшны; в молниях, умирающих в густом пару, таилось нечто роковое; озеро продолжало бушевать даже не волнами; оно кипело из глуби. Я видел 5-6 бурь, ничем не похожих на эту». Согласно воспоминаниям великого француза, русский капитан судна вовремя бури «бегал с одного конца судна на другой с криком: Мы пропали!». Паломники «падали ниц плоскими животами, ударяясь лбами о доски судна и вопя: Господи помилуй!». И только бравые иностранные гости мужественно противостояли урагану.
Свое описание путешествия Дюма предваряет скромным замечанием: «я очень люблю путешествовать, потому что наделен даром с легкостью видеть все иначе, чем другие, видеть то, чего не видит никто». Он также посчитал неправильным, находясь в Санкт-Петербурге, не «заглянуть в Финляндию», напомню, в тот момент входившую в состав России и являвшуюся большой экзотикой для иностранцев.
Во время путешествия писатель со своими тремя спутниками (французом, итальянцем и обрусевшим французом-переводчиком) посетил Шлиссельбург, острова Коневец и Валаам, город Сердоболь (современный Сортавала), мраморный карьер в Рускеале.
Самым сильным впечатлением от поездки стала буря, в которую попали иностранцы. По дороге к острову Валаам их пакетбот (так, на немецкий лад, называли регулярные почтово-пассажирские суда) попал в туман, а затем… «среди тумана ударил гром, и озеро вскипело, как вода в котле над костром. Буря, можно сказать, разразилась не в высях, а в глубинах пучины, словно сожалеющей, что держала нас на поверхности… Туман все сгущался; удары грома были страшны; в молниях, умирающих в густом пару, таилось нечто роковое; озеро продолжало бушевать даже не волнами; оно кипело из глуби. Я видел 5-6 бурь, ничем не похожих на эту». Согласно воспоминаниям великого француза, русский капитан судна вовремя бури «бегал с одного конца судна на другой с криком: Мы пропали!». Паломники «падали ниц плоскими животами, ударяясь лбами о доски судна и вопя: Господи помилуй!». И только бравые иностранные гости мужественно противостояли урагану.
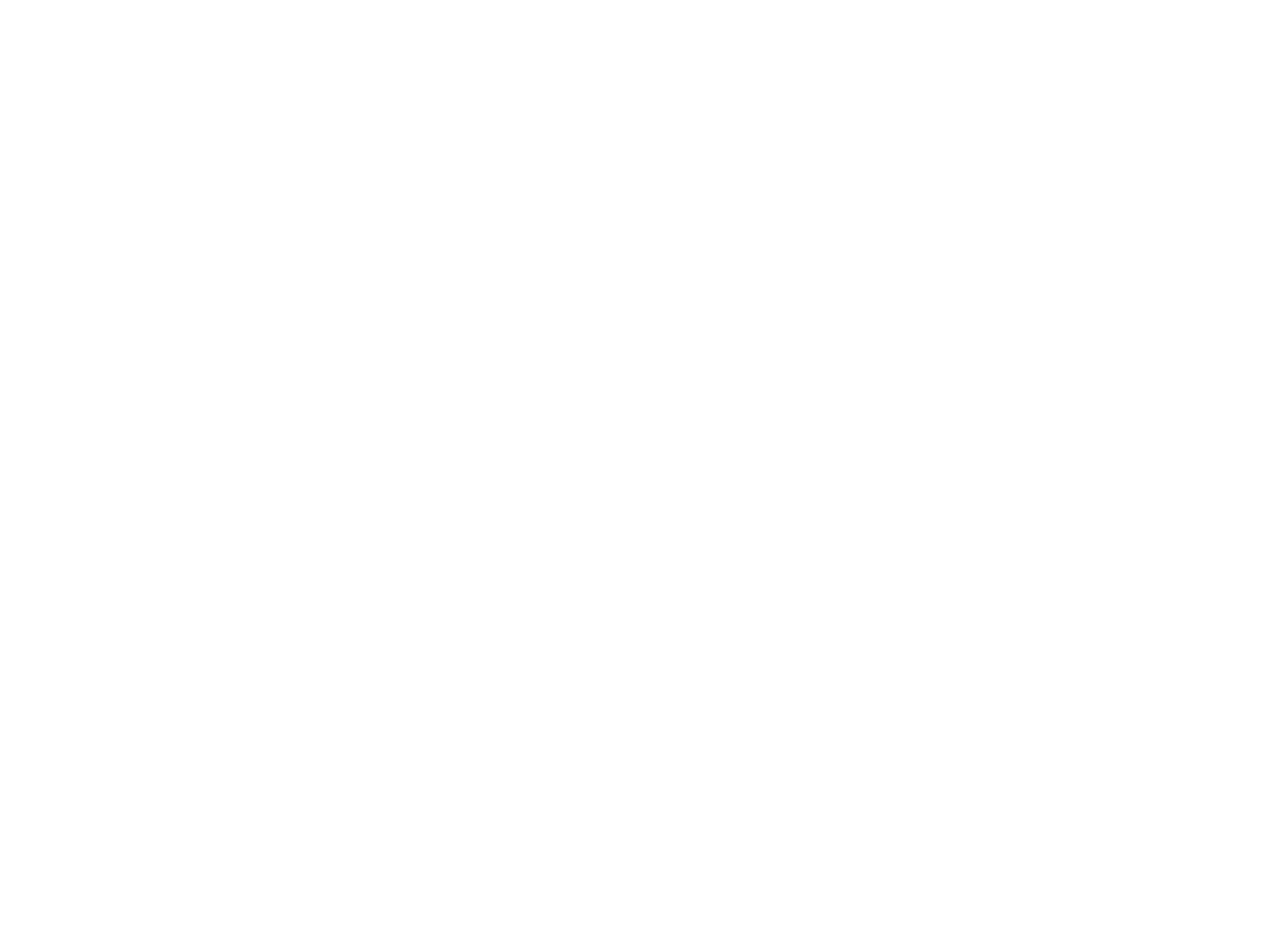
Не менее ужасное впечатление оставила местная еда. Для автора Кулинарного словаря эта тема была особенно болезненной. Оказавшись на судне, Дюма ожидал, что подобно тому, как это делалось «на Рейне или в Средиземном море, придут объявить, мол, для месье пассажиров накрыто». Однако, оказалось, что еду надо было захватить с собой, так что первый день был голодным. Переводчику удалось раздобыть только «кусок черного хлеба и кусок медвежьего окорока», а также чай с сахаром, который пили, на «русский манер», из стаканов. На острове Коневец, в Коневском монастыре иностранцы угостились завтраком, в котором «съедобной была только рыба, выловленная на наших глазах». Рыбки были мелкие, размером с сардинку. Черный же хлеб, «сырой в середине, внушал мне неодолимое отвращение», как и «неочищенные огурцы, кисшие и перекисшие в соленой воде, премерзкое блюдо». И только «чай искупает все», заметил писатель. В целом же, «В России и, в большей степени, в Финляндии, - иронизировал великий французский писатель, - человек низведен до дикого состояния. Он должен искать пищу и, чтобы ее найти, должен обладать инстинктом, по крайней мере, равным инстинкту животного».
Вообще русский быт описан французом с большой долей скептицизма. Он постоянно жаловался на жесткие кровати: «материал, которым набиты русские матрасы, оставался тайной для меня в течение всех девяти месяцев, проведенных в России». Отсутствие простыней, которые «совершенно неизвестны в России». Ну конечно, на путешествие в телеге, «une telegue», «своеобразной машине для пытки, применяемой в России для передвижения». Кое-что представляется преувеличенным, принимая во внимание, что большую часть путешествия писатель провел в обществе и в домах русской знати, ну а многое, безусловно, было присуще российской действительности.
Вообще русский быт описан французом с большой долей скептицизма. Он постоянно жаловался на жесткие кровати: «материал, которым набиты русские матрасы, оставался тайной для меня в течение всех девяти месяцев, проведенных в России». Отсутствие простыней, которые «совершенно неизвестны в России». Ну конечно, на путешествие в телеге, «une telegue», «своеобразной машине для пытки, применяемой в России для передвижения». Кое-что представляется преувеличенным, принимая во внимание, что большую часть путешествия писатель провел в обществе и в домах русской знати, ну а многое, безусловно, было присуще российской действительности.
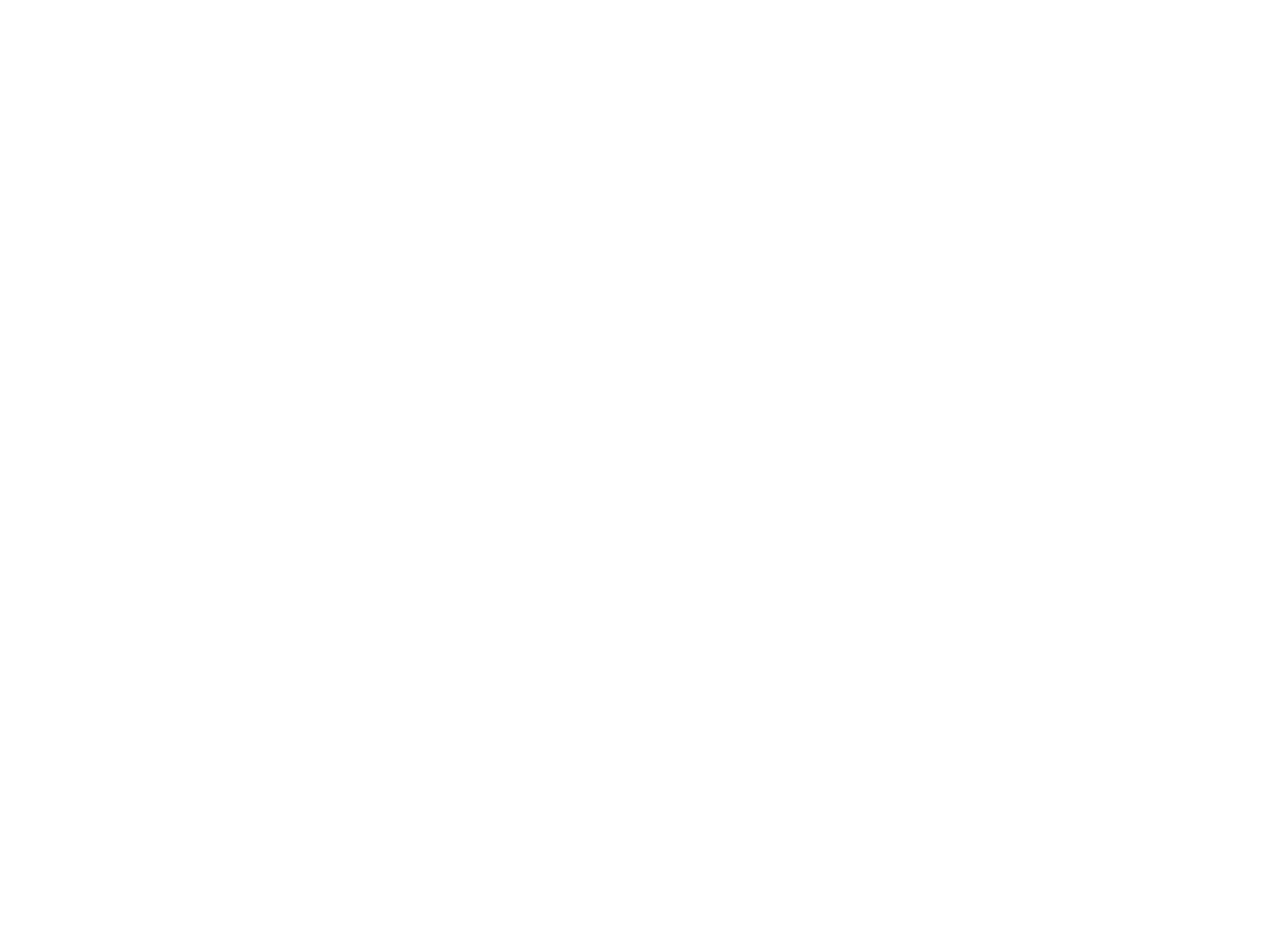
Не произвела впечатления на писателя и монастырская жизнь на Севере, путешествуя по монастырям, он постоянно подчеркивал свою дистанцированность от местной религии. Монахи представлялись ему исключительно невежественными и неприветливыми. Валаамский монастырь «не имел ничего примечательного с точки зрения искусства и науки; нет живописи, нет библиотеки, нет ни письменной, ни изустной истории; только жизнь во всем своем прозаизме и монашеских повседневных делах». Паломники и паломницы вызывали у Дюма отвращение, он считал их до крайности безобразными, «разница между обоими полами едва угадывается; лишь по отсутствию бороды можно отличить женщину от мужчины». Основателя Коневского монастыря преподобного Арсения писатель называет «св. Ансельмом», а его «мученичество», по мнению Дюма, заключалось в том, что он «погиб от комаров».
О Валааме Дюма написал, что это «не тот объект паломничества, которое совершают дважды в жизни», а город Сердоболь (Сортавала) вызвал желание «покинуть его, как можно скорей».
О Валааме Дюма написал, что это «не тот объект паломничества, которое совершают дважды в жизни», а город Сердоболь (Сортавала) вызвал желание «покинуть его, как можно скорей».
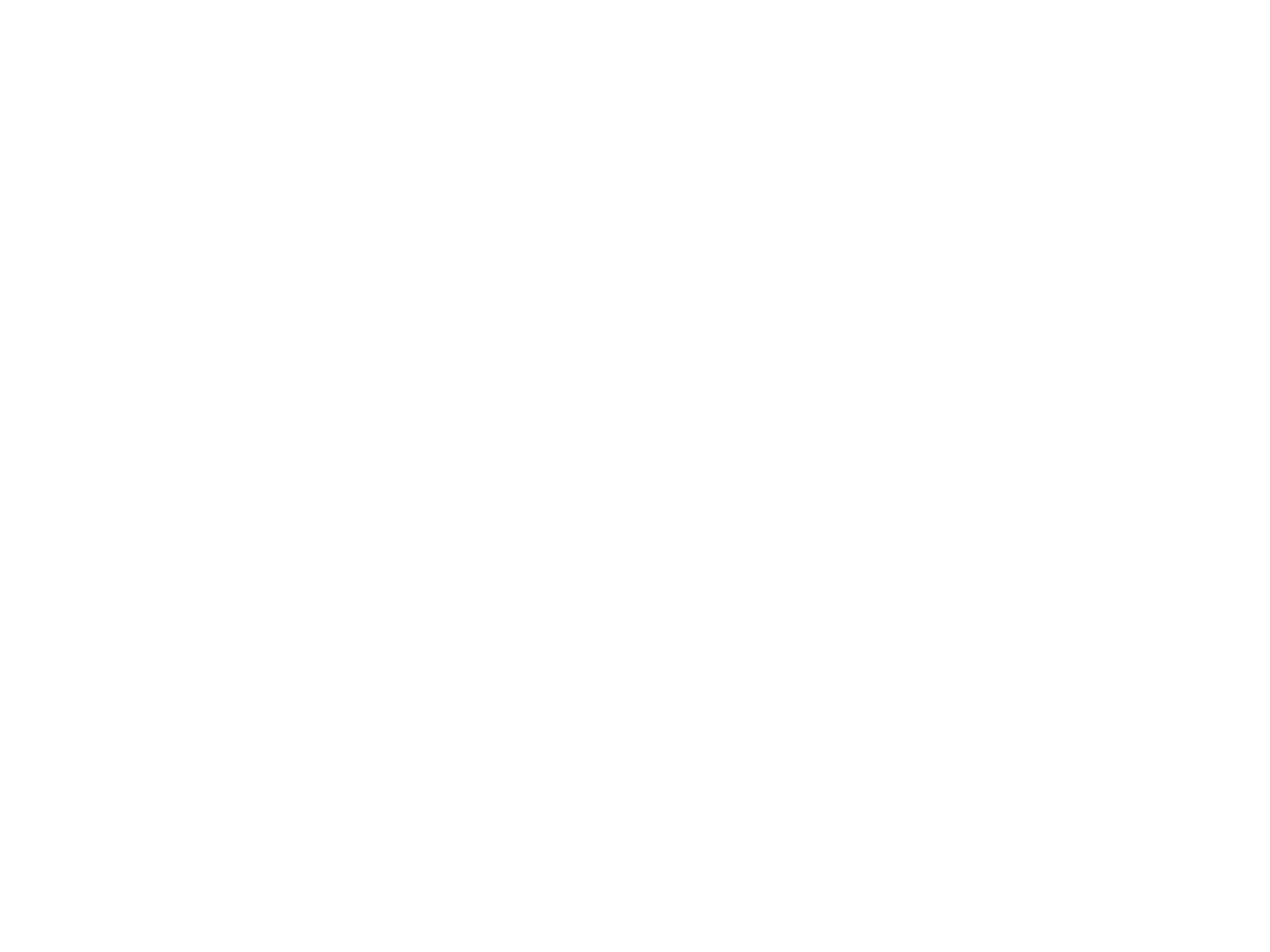
И все-таки несмотря на весьма негативный настрой, французский писатель, как человек тонко чувствовавший, не мог не попасть под обаяние русского Севера. Прежде всего он был очарован неповторимой северной красотой этих мест, непередаваемым сочетанием игры света, цвета, полутонов, красок, как и удивительным воздухом, наполненным запахами мхов, хвои, свежей воды. Во время стоянки на Валааме, он проснулся рано утром и один «пошел присесть в тени одной из рощ, чтобы под сенью прекрасных лесов в голубоватой дымке проследить неуловимые переходы от сумерек к свету. Сосем не такие, как страны с южным климатом, … страны Севера в начале и конце дня отличаются гаммой тонов живописной выделки и бесконечной гармонии; прибавьте островам неосязаемую поэзию, что исходит от вод и воплощается в зачарованный парус, и прозрачную пелену, что смягчает кричащие оттенки и придает природе такое же очарование, какое воздух придает картине. Между прочим, потом я повсюду искал эти нежные краски, которые оставили мне на память сумерки Финляндии, и никогда их больше не встречал».
Поразил воображение мастера и вид на «церковку» при въезде в гавань Валаамского монастыря, «всю из злата и серебра и такую свежую, что воображалось, будто ее только что извлекли из бархатного футляра». Она стояла среди деревьев на газоне, напоминающем газоны Брайтона и Гайд-Парка. Эта церковь – настоящая драгоценность в смысле искусства и убранства». Он со спутниками специально сплавал к ней еще раз, чтобы спокойно насладиться ее видом. Вероятно, это был недавно отстроенный Никольский скит, расположенный при входе в Монастырский залив.
Настоятель Валаамского монастыря, им в то время был выдающийся организатор монастырской жизни на острове игумен Дамаскин, понравился писателю уже тем, что слышал про его романы «Три мушкетера» и «Монте Кристо». Он был любезен с путешественниками, дал им лодки и сопровождающих для обследования острова. И, что самое важное, прислал путешественникам еды.
Поразил воображение мастера и вид на «церковку» при въезде в гавань Валаамского монастыря, «всю из злата и серебра и такую свежую, что воображалось, будто ее только что извлекли из бархатного футляра». Она стояла среди деревьев на газоне, напоминающем газоны Брайтона и Гайд-Парка. Эта церковь – настоящая драгоценность в смысле искусства и убранства». Он со спутниками специально сплавал к ней еще раз, чтобы спокойно насладиться ее видом. Вероятно, это был недавно отстроенный Никольский скит, расположенный при входе в Монастырский залив.
Настоятель Валаамского монастыря, им в то время был выдающийся организатор монастырской жизни на острове игумен Дамаскин, понравился писателю уже тем, что слышал про его романы «Три мушкетера» и «Монте Кристо». Он был любезен с путешественниками, дал им лодки и сопровождающих для обследования острова. И, что самое важное, прислал путешественникам еды.
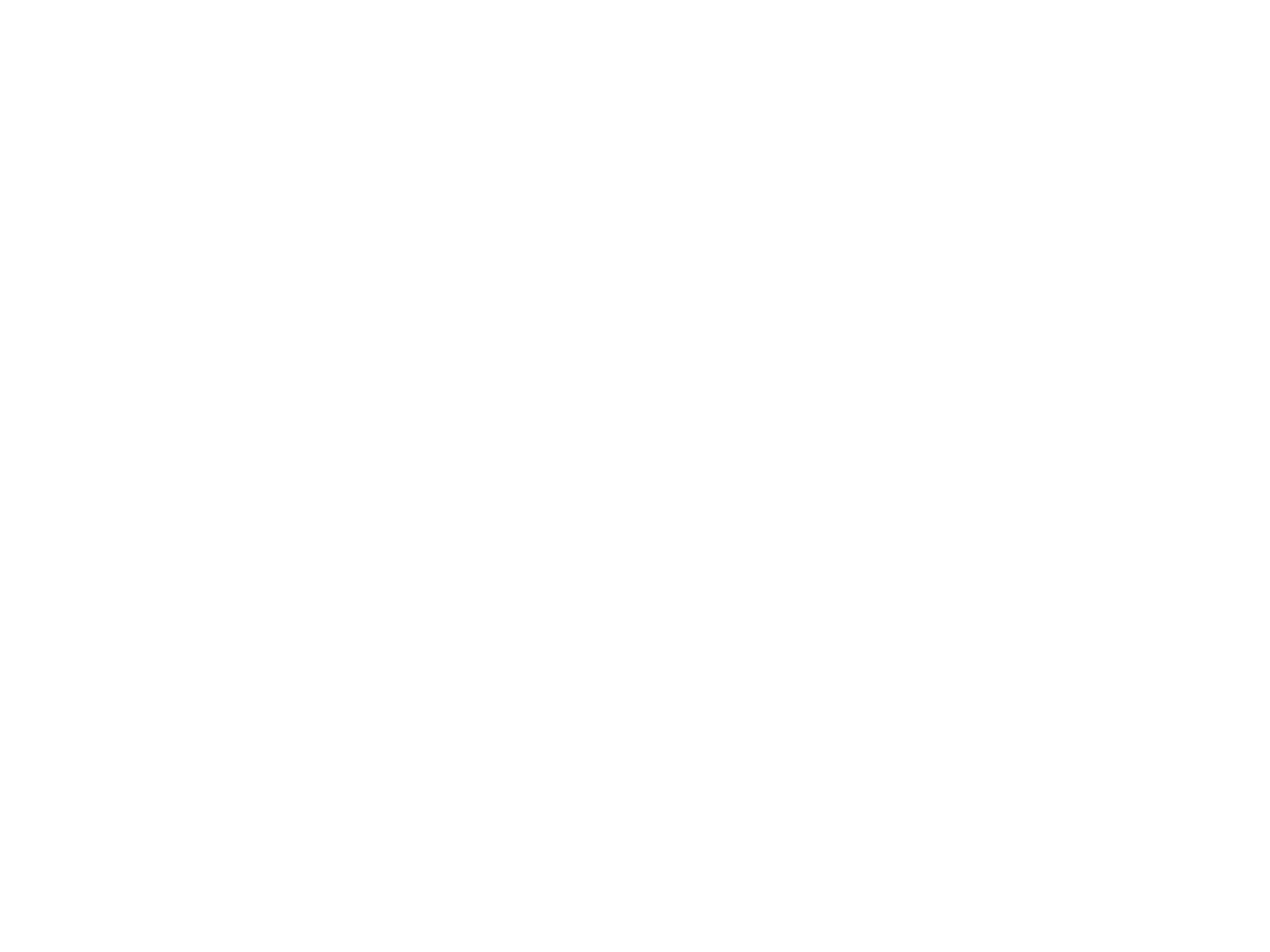
В гостиницу были доставлены рыба, салат, овощи, черный хлеб и «огромная бутыль de qwass – кваса». Особый восторг вызвала рыба, она «была великолепна – судаки, окуни, сиги и налимы», «в озере окружностью в 160 лье, каким является Ладога, рыбы достигают гиперболических размеров». К этому докупили яиц и цыплят. В результате иностранные путешественники все-таки получили гастрономическое удовольствие во время своего Ладожского турне. Правда, Дюма, француз, к тому же считавший себя выдающимся кулинаром, заявил, что не позволит «русскому повару, более того, монаху, обстоятельство из самых отягчающих, приложить руки к нашим сокровищам». Он собственноручно приготовил обед, столь великолепный, что его спутники признались, что «после отъезда из Парижа, впервые пообедали по-настоящему».
И все-таки путешествие по Ладоге оставило яркое путешествие в памяти знаменитого француза. Забывая порой о необходимости иронизировать и разоблачать, он вполне поэтически описывал свои впечатления: «Нет ничего более очаровательного, чем эти бухты в миниатюре, где деревья, которым короткое, но щедрое лето России дает зелень и силу, поддерживаемую влагой…».
И все-таки путешествие по Ладоге оставило яркое путешествие в памяти знаменитого француза. Забывая порой о необходимости иронизировать и разоблачать, он вполне поэтически описывал свои впечатления: «Нет ничего более очаровательного, чем эти бухты в миниатюре, где деревья, которым короткое, но щедрое лето России дает зелень и силу, поддерживаемую влагой…».